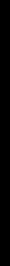Константин Баршт Тонкая ветка, а на ней сидит птицаРазмышления о теме смерти в русской литературе
Сюжет литературного произведения довольно часто завершается смертью главного героя. Причин тому две: зарождение жизни и смерть живого существа - главные события мировой истории, кроме того, когда персонаж умирает, повлиять на сложившееся к этому моменту мнение о нем он, как правило, не в состоянии. Обычно мы воспеваем жизненные успехи человека, привязывая их каким-то оцененным по достоинству делам: "деятель культуры", "общественный деятель", "заслуженный деятель" и пр. Мир так устроен, что мнение окружающих о человеке, как бы сказал Бахтин, позиция от "окружения", постоянно оказывается значительно важнее, чем личное отношение к миру, идущее изнутри самого человека. Человек как таковой постоянно уступает место человеку общественно-государственному, подобно тому, как это происходило еще в Римской империи; современная культура трактует жизнь человека как "деятельность" более или менее полезную для общества, привычно отождествляемого с населением государства. Эти заслуги оцениваются с помощью различных значков, дипломов и наград, благодарное общество ставит также памятники и мемориальные доски. Репутация обретает необходимую устойчивость. Могут ее изменить разве что не дошедшие до нас события его жизни, которые продолжаются и после его ухода, например, вдруг вскрывшиеся факты его биографии или постфактум прочтенные посмертные записки. Не случайно награждение художников и писателей, самых далеких от государства людей, орденами, постоянные попытки навязать им "чин" и "должность" - общее и здесь пытается подмять под себя частное и индивидуальное. Правда, существует другая шкала ценностей и иной метод трактовки заслуг человека. В зачине "Братьев Карамазовых" Ф.М. Достоевский говорит об Алеше, что он особого типа "деятель" - незаметный и не пожинающий лавры, однако, чрезвычайно полезный для человечества и мировой истории. Голос его деятельности по рассеиванию добра и красоты в виде слов и дел весьма негромок, но внятен и необходим. Известно, что соответствующее этому типу жизнеустройства определение "добродетели" может претендовать сегодня на звание самого опошленного и искаженного слова русского языка. Трудно сегодня найти человека, который употребил бы это слово без ухмылок и помимо переносного смысла. Однако, нашлось место, где эта идея чувствует себя на своем месте - это русская литература, которая, на протяжении всего периода своего существования, сосредотачивала свое внимание именно на смысле такого рода "деятельности" и на персонажах, ищущих добро и правду. То есть: персонах, не получающих общественного признания. В связи с этим вспоминается мысль А.П. Чехова о том, что прав или не прав может быть только отдельный человек, в то время как толпа всегда не права. Человек на фоне общества выглядит неубедительно, а вот общество на фоне этого отдельного человека убеждает нас в чем-то. Особенно, если этот человек умер за выношенный им идеал. Описание того, как общество убивает или морально уничтожает человека, игнорируя его индивидуальность, или даже уголовно преследуя его за наличие иной точки зрения на вещи, составляет основу сюжета литературного произведения. В этом смысле художественное и историческое исследование сближаются: и то, и другое должно максимально достоверно описать жизнь человека или группы людей как осмысленное единство. Разница в том, что историческая наука есть построение некой абстрактно-идеальной, среднеарифметической и обще-нормативной познавательной модели, в то время как художественное исследование есть взгляд одного индивидуального сознания, не претендующего на общественное доминирование, на другого человека или людей, взятых в их борьбе за свое личное самоосуществление. Человек создает тексты, чтобы откорректировать собственные ошибки. Но если история - это учеба общества на собственных ошибках, то литература - это учеба Мироздания на ошибках отдельного человеческого "я", и даже не каждого, но только такого, кто пытается выразить свое индивидуальное видение мира в поступках и текстах. Эта модель работает, начиная от первых житий святых и кончая героями современной литературы, которые реализовали свою жизнь как проверку на практике некой своей потаенной мысли о мире, каждый раз проверяя эти идеалы своим предстоянием смерти. Вырисовывается механизм образования событийности в художественном тексте: облеченная в телесную форму точка сознания человека, несущего в себе своеобычную трактовку идеалов "красоты", "добра" и "истины", сталкивается с окружающей его общественной реальностью, более или менее терпимо к нему относящейся. Расподобление такого человека с общественной нормой становится очевидно постепенно, по мере движения сюжета, вначале оно может звучать как скрытое сомнение к релевантности этой нормы. Отсюда ясно, что, говоря о смерти человека, будь то в реальности или беря некое событие из сюжета литературного произведения, мы приписываем ему значения, которые освещают смысл его бытия как одного из вариантов Бытия в целом. Так уж устроен человек, что свое личное бытие он никак не может отделить от бытия всего Мироздания, постоянно стремясь интегрировать свой личный смысл в великий Смысл Сущего. Поскольку точка сознания человека не имеет возраста, общественного положения, зарплаты, ученой степени, прописки, медицинской страховки и срока жизни - а телесный человек, который несет эту точку, все это имеет или может иметь, трагическое противоречие между вечным и временным обретает значение борьбы между честью и бесчестием. Бесчестие выгодно и полезно для телесного "общественного человека", в то время как следование канону чести опасно, сулит страдания и даже скорую смерть. С другой стороны, смерть, по Баратынскому, есть разрешение смех загадок; персонаж из произведения Андрея Платонова, который убил себя из любопытства: а что там, за границей жизни? - есть символическое воплощение судеб героев русской литературы. Николай Гумилев, воспевая в своих стихах рыцарское служение идеалам красоты и добра, неправильно, с точки зрения бытовой смекалки, ответил чекистам на вопрос о своих политических симпатиях. Однако если бы он сказал им нечто, что сохранило бы ему жизнь, то его точка сознания, задним числом, не смогла бы увидеть мир таким, каким он описан в его стихах. Стихи Гумилева не могли быть написаны человеком, который изловчился бы навешать лапшу на уши чекистам, а потом, хитро посмеиваясь, отправился бы домой выпить за здоровье жирафа, живущего на берегу озера Чад. Такого типа людей, с начала XIX века, называли "честными людьми", имея в виду, что честь оценивается выше стоимости жизни. Сейчас, к сожалению, титула "честный человек" может заслужить тот, кто ни разу не украл кошелек у соседа, хотя бы это произошло только потому, что просто не было удобного случая. Именно этого внутреннего строя "честный человек", в первозданном значении этих слов, находится в центре любого литературных сюжетов. Это включает и так называемых "отрицательных героев", фиксирующих ошибку или отклонение в понимании вектора "красоты-добра-истины", и героев-плутов. Это структурная доминанта художественного текста, и, одновременно, его коммуникативная основа, ведь восприятие художественного текста - дело отнюдь не коллективное, никакого "массового читателя" не существует, равно как и "массовой литературы", каждый читатель - наедине с миром, своей личной точкой зрения на него и книгой, фиксирующей иной взгляд на вещи. Поэтому столь важно понять, зачем необходима такая сюжетная точка как смерть персонажа. Не имеющее начала и конца, не может иметь смысла, поэтому жизнь человека, ищущего смысла своей жизни, оказывается поиском такого окончания, которое проясняло бы основной смысл бытия. Смерть человека в быту - страшное для всех близких людей горе, смерть человека в литературе - позитивный акт прояснения смысла его жизни. В этом и сходство, и различие. Не случайно, Александр Блок призывал художника твердо веровать "в начала и концы", в то время как Тихон Задонский был уверен, что доброе дело "от конца делается". В этом фокусе сходятся все русские писатели, несмотря на все различия их идеологических убеждений и художественных методов. Вырисовываются три основных события мировой литературы и мировой истории, взятых в пределах системы ценностей частного человека: появление в мире точки зрения на него, не ангажированной материально или политически, ряд несовпадений индивидуальной системы ценностей с нормами его окружения, и гибель человека, которая оказывается последним актом не смирения с тем, что предлагает ему общество. Так как путь "честного человека" принципиально чреват гибелью, а поскольку физическая смерть неизбежна для каждого, то альтернативы пути "честного человека" просто не оказывается. Жизнь литературного героя отсчитывается от ее окончания, даже если речь идет, например, о детстве "Багрова-внука". Описывая жизненный путь своего героя, писатель сопоставляет его слова и действия с предстоящей ему смертью и теми конечными целями, которые тот ставит перед собой в жизни. Человек как точка сознания, обладающая телесностью, естественным образом входит в конфликт с бытовой реальностью; то, что характеризуется популярным словосочетанием "конфликтная личность", есть главный герой русской литературы и, одновременно, русской и мировой истории. В этом смысле литература есть оправдание бескорыстной и неистовой борьбы человека за воплощение своего личного понимания идеалов добра и красоты. Разумеется, при условии учета всех возможных вариантов и трактовок, в том числе и заведомо ложных. Причиной смерти литературного героя, оказывается его несовместимость с моделью, которую Ф.М. Достоевский обозначил как способность "дешево уживаться". Было время, когда литературоведы искали универсальный литературный сюжет. Если это возможно, то, скорее всего, именно в этом направлении. Ю.М. Лотман цитирует надпись на ордене Шамиля: "Кто знает последствия, не сотворит великого". Но последствий наших решений не знает никто, так что событийный фундамент мировой культуры остается незыблемым. Основным поставщиком событий русской истории последние три века оставалась интеллигенция. В этом смысле, мы можем присоединиться к мнению Д.Н. Овсянико-Куликовского, считавшего синонимами словосочетания "русская история", "русская литература" и "история интеллигенции". "Проклятый вопрос" о смысле человеческой жизни, в аспекте его общественной реализации, решается так: быть самими собой настолько, насколько это смогут вытерпеть окружающие, готовые растерзать любого, кто покажется им лучше (или хуже, что в данном случае одно и то же) общепринятой нормы. Традиции описания гарантий, которые предоставляет идеалам добра "честный человек", весьма значительны. Художник Пискарев в повести Н.В. Гоголя перерезал себе горло, когда убедился, что Красота, которой он посвятил жизнь, продается оптом и в розницу, причем по весьма доступной цене. Князь Мышкин у Достоевского окончательно отсоединился от реальности, когда не сумел примирить законы общежития с законом чести и правды, существовавшим, как оказалось, только в одном месте - его сознании. Будучи не в состоянии совместить свою жизненную модель с действительностью, покидает этот мир Анна Каренина. В сюжетном пути литературного героя мы обнаруживаем три основных события: его появление в мире, его принципиальное расхождение с миром, его гибель. Некоторые произведения на тему смерти логически противостоят фабульной конструкции мемуаров, описывая образование смысла не от начала к концу, но от конца к началу. Например, "Легкое дыхание" И. Бунина. Хрупкость биологической организации человека и высочайший уровень необходимости заключенной в нем точки зрения Мироздания на себя само заставляют думать, что смерть имеет великий, доселе не понятый смысл. В тематическом аспекте смерть выступает как некая полоса, отделяющая частного индивидуального человека от мировой истории, понимаемой как космический процесс или история человеческой культуры. Одно и то же событие, взятое в ином бытийном контексте, получает иной смысл. Примирение со смертью составляет в этом процессе важную составляющую: мы осознаем в смерти ее неизбежность и естественность - биологи уже построили ряд красивых и убедительных концепций, свидетельствующих о том, что для живой природы смертность человека есть большое неизбывное благо. Кроме того, смерть существует лишь за пределами человеческого "я", внутри нашего мира смерть невозможна. Веря в то, что человек - это не только его бренное тело, мы не можем примириться с процессами, ускоряющими путь человека к смерти. Человек, гибнущий от холодного невнимания к нему или, тем более, от грубого насилия со стороны отдельных людей или общества в целом, становится обвинителем - жестким и, одновременно, незаинтересованным в наказании обвинителем. Мы знаем, что в любой уголовно-процессуальной системе важна неотвратимость наказания. Неотвратимость смерти не подлежит контролю с нашей стороны, однако возможно контролировать степень свободы в нашем выборе уровня совместимости должного и насущного. Этот моральный императив наказания за гибель человека перешел в судебные системы из естественной уверенности, что любой человек, оканчивает свою жизнь, так и не реализовав заложенных в нем возможностей. Возможности этой бытийной реализации находятся в сфере сочувственного и заинтересованного внимания одного человека к другому. Конечно, тот или иной уровень циничного отношения окружает любого человека, и, вместо того, чтобы помогать ему найти адекватное применение своим возможностям, общественная норма активно орудует лопатой, закапывая его талант в сырую неподатливую землю. Смириться с этим невозможно. Тем более, что эти возможности, таланты и способности вовсе не принадлежат обществу, тем более - не принадлежат и самому человеку, они даны ему Мировой Историей и категорический императив бытия требует их непреложной реализации. Поэтому убивая ближнего своего целенаправленным "подрезанием крылышек", человек вступает в конфликт с Мировым Смыслом, наделившим и его, и нас способностью выбора, моральной и онтологической свободой. Принципиально вечная точка зрения на мир, связанная одномерным временем и обремененная сложным и требовательным организмом, выражает конфликтность ситуации, может быть трактована как парадокс: "вечная душа во временном теле". Однако, можно изменить эту неудовлетворительную ситуацию, разместив точку сознания в среде, полностью адекватной ее онтологическому статусу. Такой средой может быть художественная реальность, которая существует, хотя и условно, но зато принципиально вечно и онтологически незыблемо, следовательно - на значительно более высоком уровне необходимости себе и Мирозданию, чем общественно-социальная бытовая действительность. Главное, что здесь происходит освобождение от кошмара биологической смерти человека, в этом мире, в отличие от реальной действительности, смерть существует и "для себя", и "для других" - можно засвидетельствовать ее существование и после собственной физической смерти. Разумеется, в этом смысле, художественным произведением на тему смерти становится любое литературное произведение. С другой стороны, создание условного мира, в котором побеждена смерть, оказывается ересью по отношению ко всем существующим в мире религиям, так как оно в каждом новом тексте иначе, чем это принято в известных канонах, трактует условия и обстоятельства этого перехода. Ведь в условиях бесконечного времени и пространства сюжет невозможен, в мире остается одна сплошная фабула. И если в реальной действительности у человека есть начало и конец, то в ином измерении, куда уходит человеческая душа, у нее нет ни конца, ни начала. Пресловутая "пороговая ситуация" предстояния смерти видна только с одной стороны - со стороны жизни; ограничения бытия, наложенные на человека его биологическим организмом, создают условия для выяснения формальных границ его личного "я". Как ни парадоксально, именно ограниченность телесного биологического Гомо Сапиенс и создает условия для реализации им своей онтологической свободы. Заданы правила игры, и можно выбрать: участвовать в этой игре в роли искусного игрока, шулера или дилетанта, или не участвовать вовсе. В любом случае, человек имеет право выбора, а сам этот выбор дан ему известной системой ограничений, его же собственной ограниченностью. Точка зрения, расширяющая границы своего, казалось бы, уже жестко определенного пространства, становится главным сюжетообразующим фактором. С другой стороны, литературный текст, который сосредотачивается на деталях физического уничтожения человека, представляя, например, описание полового акта, совершаемого в рану на голове, прорубленную электрическим рубанком, которое мы обнаруживаем в творческом наследии В. Сорокина, может напоминать о физиолого-мясном семантическом ряде, который был освоен в "Гаргантюа и Пантагрюэле" Ф. Рабле. Правда, там он играл важную роль для образования гротескного пространства романа. Вырванный из этого контекста и теряя свое эстетическое значение, он превращается в нечто, что по молодости лет вдохновляло Н.В. Гоголя (и от чего, в отличие от В. Сорокина, отказался): человек, с которого содрали кожу, сидит и играет на бандуре ("Кровавый бандурист"). "Кровавые бандуристы", во множестве рассеянные в нашей бульварной литературе, все еще продолжают петь свою заунывную кладбищенскую песню, однако читателя все более интересует не сколько процесс высыхания мышц при снятии кожи со спины живого человека или изнасилование беременной женщины, зажатой в столярный верстак, сколько интеграция жизни человека в нечто большее, чем "дом, семья и работа". Чаще всего, полоса, отделяющая жизнь человека от его смерти, трактуется в литературе двумя основными способами. В первом варианте, смерть есть часть жизни персонажа, так как дело, ради которого он умер, успешно продолжается в обществе. Таковы судьбы героев в литературе о Великой Отечественной войне, описания гибели революционеров в литературе "социалистического реализма", средневековые жития святых. В этом продолжающемся после смерти героя деле может быть религиозный аспект, социально-общественный, культурный, эстетический. Герой может умирать красиво или некрасиво, полезно или бесполезно, служа своим делом некой прагматической или, возможно, утопической идее. Применительно к конкретному литературному герою, наблюдая героическую кончину персонажа, обычно мы имеем дело со сложной комбинацией мотивов. Таковы, например, "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Как закалялась сталь" Н. Островского, "Бедная Лиза" Н.М. Карамзина, "Молодая гвардия" А. Фадеева, житие Антония Печерского и Михаила Черниговского. Смерть человека есть важнейшая часть его жизни, понимаемой как часть реальности. Воспользовавшись бахтинским термином, назовем это вариантом "от окружения". Второй вариант, когда сама жизнь человека берется за нечто, предшествующее его уходу из жизни как чему-то подготовительному к новому состоянию, посмертному инобытию, во всем разнообразии моделей, которые выработаны на сегодняшний день мировой философией. Здесь моя земная жизнь оказывается частью вечного бытия, и трактуется как этап некого потенциально бесконечного пути. Таковы почти все "большие романы" Ф.М. Достоевского, "Котлован" и "Чевенгур" А. Платонова, "Мастер и Маргарита" М. Булгакова. Оба списка, разумеется, можно продолжить. Это вариант "от кругозора". В первом случае смерть есть акт исчезновения "ты-для-меня", во втором - исчезновение "я-для-тебя". Если в первом ценность его жизненного пути равна релевантности того дела, которому он отдал свой земной срок, то во втором случае сама его жизнь как бытие точки сознания, безотносительно к какому-либо прагматическому аспекту, оказывается безусловной ценностью, находя свое оправдание в самой себе. Смерть здесь трактуется как этап становления мирового сознания, представленного некой отдельной точкой видения; она имеет физическую и телесную выраженность, и разрушение данной формы выражения - биологическая смерть - не является доказательством гибели этой точки, продолжающей свое существование в иных формах. Назовем это "космическим аспектом", имея в виду то, что в данном случае человек понимается как Целое, осознающее и отражающее себя интеллектуальными усилиями своей части. Всевозможные фарсовые и памфлетные описания смерти человека, например, в "Случаях" Д. Хармса или в литературе постмодернизма, мы не выделяем в самостоятельный тип, так как любые смеховые отражения этих двух вариантов сохраняют внутренние параметры каждой из двух систем. Наверное, на основе этой типологии можно было бы построить модель развития русской литературы ХХХI вв., и такое описание, возможно, многое бы прояснило. Но нас интересует современная литература, в которой тема смерти продолжает звучать весьма отчетливо, и в которой пребывают и успешно развиваются оба типа: обрывается или продолжается жизнь человека, который парадоксально совмещает в себе существо биологически конечное и онтологически бесконечное. Каждый автор идеологически нагружает смерть своего героя теми факторами, которые высвечивают основную идею его жизни. В "Смерти Ивана Ильича" Л.Н.Толстого показано, что жизнь человека есть процесс умирания биологического существа, однако осознание этого факта приходит лишь после смерти или непосредственно перед ней; приспособить эту идею к своей реальной земной жизни социальный бытовой человек, увы, не в состоянии. Здесь выявляется априорная ущербность позиции человека, сосредоточившегося на общественной реализации (по первой модели - денежно-карьерного роста). Возрастные трактовки этих возможностей известны: в юности все кажется возможным, и от тебя лучами расходится бесконечный пучок возможных путей и направлений, в старости от этого пучка остается тощая облезлая палка сегодняшнего наличного бытия. Вспоминается Леонид Андреев. Его персонаж, отвечая на вопрос пришедшей к нему Смерти, чем же он занимался все предшествующее время и почему "ничего не успел", говорит: "немного любил, немного работал, немного путешествовал". "Это и была жизнь", холодно отвечает ему Смерть. В рассказе Л.Н. Толстого "Три смерти" видно, насколько глубже и проще отношение к смерти со стороны дерева и живущего по законам Мироздания старого ямщика, нежели "европейски образованного русского", используя терминологию Ф.М. Достоевского. Сам Достоевский описывал не столько смерти своих героев, сколько их жизнь в связи с приближающейся смертью, или даже после нее, пытаясь найти путь человека к Всемирному Смыслу. Для его героев понимание "бытия" было связано атрибутом вечности, один из его персонажей цитирует Парменида: "Бытие есть, а небытия нет". Отсюда необходимо следует, что нечто, обладающее бытием, вечно. Вот почему мы встречаем обилие посмертных "мемуаров", "записок" и пр. в его творческом наследии. Но это свойство не одного Достоевского, русская литература, отрицая "общественное животное", продолжает сосредотачиваться на человеке как неотъемлемой части Космоса. Принципиальное неверие в окончательную смерть, фактически, есть главная доминанта всей русской литературы, начиная со "Сказания о Борисе и Глебе" и кончая последними публикациями в наших литературных журналах. Например, рассказ Владимира Кантора "Смерть пенсионера". Рассказ В.Кантора весьма скупо рисует картины, зато передает и порождает мысли с степенью достоверности на грани ощущения телепатического сеанса. Такого рода эффект возникает не очень часто, но это и есть признак настоящей художественности. Скудная детализация предметов окружающего мира, который окружает Галахова, героя этого произведения, порождается не только свойствами повествования, избранными автором, но еще и гарпагоновской скупостью общественной реальности по отношению к главному герою, погибающему от моральной тупости окружающих. Идеологической доминантой рассказа становится описание процесса ухода из жизни одного из лучших представителей рода человеческого, доведенного на самого края обстоятельствами его жизни. Когда читаешь рассказ, вспоминается определение ада, которое давал герой Достоевского старец Зосима: "невозможность любить". А также мысль другого литературного героя: на самом деле, библейского и посмертного ада нет, зато окружающая нас действительность - это и есть ад, более или менее социологизированный и, местами, неплохо обставленный. Герой Кантора осужден на этот ад, как и любой другой человек, без вины виноватый, однако, и в этом держится достоинство его личности, сохраняет в себе способность любить. По модели, с математической точностью выявленной Яковом Беме: "ангел посреди Ада находится в Раю". Это произведение - отнюдь не только о страданиях современных пенсионеров. Кантор фиксирует здесь феномен, который уже давно был зафиксирован в русской и мировой литературе: чем человек сильнее чувствует потребность любви и готов сам отдавать свою любовь другим, тем меньше он ее получает со стороны окружающих. Происходит тихое и разрешенное законом убийство ближнего с помощью отказа ему в уважении и любви, одинаково опасно и для того, кого таким образом убивают, и для человека, проявляющего душевную скупость. Скупой платит дважды - и за себя, и другого, которому он недодал. Безответная любовь гениального человека, живущего к контексте нелюбви и бытовой пошлости - основная тема рассказа Кантора. Эти условия, для себя самих и для Галахова организовали его ближние родные и неродные люди, все одинаково чужие ему в морально-общественном аспекте и одинаково чуждые ему онтологически. Во время его похорон один из его друзей плаксивым голосом констатирует, что, дескать, ты-то попадешь в рай, а нам, несчастным, что суждено? В свое время Н.Ф. Федоров, отвечая на вопрос, что заставило его прийти к идее "супраморализма", требующего тотального служения каждого всем и всех - каждому, говорил, что основанием тому было раннее понимание того, что не только чужие люди не стремятся к братским отношениям, но что даже родные братья оказываются чуждыми друг другу. Братство - тонкий механизм, для его существования необходима взаимность, его можно описать как взаимную и неэротическую любовь. В одиночку братство не образуется, почему жизнь человека, наделенного щедростью души и умением любить, пребывающего в обществе тех, кто любить не в состоянии - самая громкая (и самая сюжетно распространенная) коллизия мировой литературы. Владимир Кантор описывает наше общество как группу дикарей, которая с энтузиазмом трясет большой баобаб, на котором сидят старики, а падающих с почетом (или без оного) хоронит. Он заставляет нас поверить в то, что общество, которое вытряхивает на кладбище своих стариков, как крошки со скатерти после сытного обеда, недостойно называться сообществом людей. Лучшее из сравнений, которое приходит автору в голову в связи с этим, заставляет подумать о каннибалах центральной Африки. Правда, поедая своих стариков, каннибалы верят, что вещество тел, в виде пищи входя в их живую плоть, тем самым продолжает свое существование. Наше общество лишено столь изысканной мотивации - стариков просто вывозят на кладбище, ликвидируя материально. Губительная для страны идеологическая "педократия", чреватое 1917-ым годом наступление которой на Россию с ужасом зафиксировали авторы "Вех", ныне получила новую, еще более категоричную редакцию: мы убьем своих отцов и матерей не из идеологических соображений, но просто потому, что сами молоды. А когда состаримся - наши дети убьют нас, и это будет справедливо. Эта система возрастного шовинизма весьма сходна с армейской дедовщиной: я издеваюсь над тобой, салагой, потому, что год назад так же издевались надо мной. Так что, прежде чем искоренять дедовщину в армии, хорошо бы ее искоренить из социальной политики нашего государства, где все старики - рядовые Сысоевы. Их привязывают к их грошовым пенсиям и в таком положении насилуют нищетой, до тех пор, пока они не умрут, от голода, болезней или горя. Герой рассказа Галахов не зря вспоминает о Николае Федорове: идея отцеубийства, уютно расположившаяся в головах наших сограждан, и предваряющая ее идея тотального сиротства, составляет основу национальной морально-психологической модели. Рассказ Кантора заставляет подумать именно об этом. В произведении не отыскать сложных и изысканных сюжетных ходов, столь любимых "массовым читателем", он интересен иначе - своей точной и жесткой связью реальной современной жизни с, казалось бы, уже давно затертым "вековечным вопросом" о жизни и смерти. Автор исходит из того, что назначение литературы порождать мысли, сдвигать твою точку зрения на мир к некой более адекватной тому, что есть ты, и что есть окружающий тебя мир. Однако, как правило, то, что нам внятно в художественном тексте, содержится в том воздухе культуры, которым мы пытаемся дышать. Поэтому, такой текст как "Смерть пенсионера" вряд ли будет иметь шумный успех. Почти нет читателя, который смог бы увидеть жизнь Галахова как свою собственную. Для этого нужно развеять описанное Кантором ужасное одиночество Галахова, а развеять его практически некем. Собственно, именно об этом и рассказ. © K. Barsht
Источник: http://www.utoronto.ca/tsq/28/barsht28.shtml |